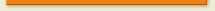[Вернуться на Главную Страницу Раздела]
[Вернуться на Предыдущую Страницу] [Следующая Страница]
| Мы будем рады разместить Ваши истории на сайте, присылайте их Доктору Знайке! |
Дед Касымбай
Автор: Ирек Бикбаев
Ему
было 86, стояла невыносимая жара, его поджидала смерть и он знал об этом. Ещё
совсем недавно он был свеж, бодр и почти полон сил, но от такой духоты срок
годности резко сокращается, что же говорить о старых никчёмных людях. Жара
подкосила его и непрерывно добивала. Вчера он сходил на кладбище, там он
работал сторожем и знал, что идёт он туда в последний раз... * * *
Нещадное солнце в казахских степях бьёт по
особому. Касымбай встал рано, потому как давно уже собирался и вот это
случилось, сгробастал воедино свои оставшиеся силы, с каждым днём покидающие
его. Он сидел на краю своей железной койки, свесив исхудалые ноги вниз и
пытаясь думать, пытаясь вспомнить что-то. Ему много лезло из памяти, ведь он
прожил долгую жизнь. Он сидел и вспоминал, поглядывая на свои старческие
ступни, кривые и посиневшие от длительной эксплуатации и с силой двигая
пальцами на них. Пол был холодный. И грязный тоже. То единственное, что он не
мог сейчас вспомнить, так это то, когда он последний раз убирался у себя. О,
это было давно, очень давно, когда его спина ещё имела возможность сгибаться,
лет 15 назад. Сколько воды утекло с тех пор.
- Убраться надо, - сказал он сам себе, - да, надо
убраться. Вечером уберусь, а завтра всем подарки сделаю. Ага, сделаю.
Касымбай после этого монолога долго кашлял и
плевался кровью себе под ноги, схватившись за грудь. Зазвенел старый советский
будильник "Слава", но он ему не пригодился, он встал раньше и поэтому
заглушил его, нажав тонкими скрюченными пальцами на кнопку сверху и перевернул
его циферблатом вниз, чтоб не видеть больше неуловимого хода часов, но тиканье
их зловеще напоминало ему о предстоящем конце. Взяв с тумбочки открытую пачку
овальных сигарет достал одну и вспомнил, что спички лежат на кухне, возле
плиты. Вот незадача. Придётся двигать на кухню. Касымбай взял свою трость с
алюминиевым набалдашником, такую же худую как он и перемотанную изолентой в
пяти местах, и приподнялся тяжело дыша и горбатясь. Заодно и чайник поставлю,
подумал он, есть то всё равно не хочется, да собственно и нечего. Он курил и
выпускал одновременно дым со рта и из носа, стряхивая пепел вниз и комкая его
носками. Попив крепкого чаю, как делают все казахи по утрам, он засобирался.
Спуск с пятого этажа на землю занимал у него около 20 минут, а пройти надо было
семь километров. Семь километров, передвигаясь маленькими шажками, опираясь на
трость и постоянно останавливаясь, чтоб хоть отдышаться немного и всё это под
безжалостным палящим солнцем. Единственное, что спасало его от яркого светила,
так это узкий разрез глаз, но Касымбай не доверял особо этому разрезу и всегда
надевал тёмные защитные очки...
Перекати-поле, как чёрная кошка, постоянно
перебегало ему дорогу, крутясь и переворачиваясь по ходу своего движения.
Касымбай смотрел на всё это и ему становилось тоскливо, тоскливо от мысли, что
всё что он видит скоро канёт в лету. Знакомый сосед, проезжавший мимо на старой
копейке, остановился подле него и открыв часто заедающую дверь поприветствовал
почтенного старца:
- Салам, Касым! Куда путь держишь в такую-то погоду?
Старик остановился и прищурился, хотя делать это
было не обязательно, так как он и так походил на китайца советской закалки, но
узнав в незнакомце своего приятеля слегка просиял, как-то фальшиво:
- О, Серик. Салам, салам! Да вознаградит тебя
Аллах здоровьем. На кладбище иду, будь оно не ладно.
- УЖ не помирать ли собрался? Пошёл наверное
место себе выбирать, да! Ха-ха-Ха, - и водила мотнул своим загорелым загривком,
весело ржа как необученная лошаль и тарабаня пальцами по царапаному и не раз
битому лобовому стеклу, сплошь изъеденному трещинами.
- Никак нет. Жену хочу проведать, пока сам не
приставился, - ответил на это старик, опёршись своим тощим телом на трость и
расставив ноги по ширине плеч, для равновесия.
- Шучу я, шучу Касым. Живи ещё долго и пусть
лучше тебя Аллах здоровьем побалует. Садись уж, подвезу. Мне всё равно в ту
сторону ехать.
Кряхтя и ругая себя за неповоротливость,
медлительность и несгибаемость своих окоченелых членов старик уселся, поставил
трость к бардачку, но не отпустил, продолжая за неё держаться и слегка
осмотрелся вокруг, сняв очки успевшие покрыться пылью. Серик закрыл за ним
дверь, правда со второго раза и с большим усилием, затем подошёл к багажнику,
переложил зачем-то ржавую канистру с бензином и закрыл его. Потом он достал
своего обрезанного друга и с великим наслаждением и стоном принялся прибивать
непокорную пыль к дороге, надеясь в глубине души о небольшом хотя бы дожде.
Весело отряхнув с конца капли он застегнул ширинку, плюнул, постучал два раза
по переднему колесу и тоже сел. Завёл движок. Машина проехала полметра и заглохла.
- Э-э-э, плять, чё творит а?
Со второго раза всё вышло как нельзя лучше. Серик
неистово заржал оголив свои лакированные и протёртые от твёрдой и несвежей пищи
золотые зубы и на радостях чуть не вырвал руль, держащийся помимо честного
слова ещё и на соплях. Серик быстрым и ловким движением откинул на себя
козырёк, где на него с внутренней стороны смотрел приклееный изолентой
календарик за прошлый год с грудастой особой с широко раздвинутыми ногами и
бритой, но татуированной промежностью.
- На базар еду. Розка сказала костей взять, суп
сегодня вечером будет, так-то, из баранины, - сказал Серик повернув свою
грязную и давно небритую рожу в сторону старика.
Касымбай сидел смирно, лишь изредка подпрыгивая
на кочках и ухабах и смотрел на дорогу, давно уже не оправдывающую своего
названия и не выполняя возложенной на неё задачи. От себя хочу только признать,
что дороги в Казахии хуже чем у нас, да и дураков там побольше, от понимания
этого становится теплее и приятнее на душе. Старик глубоко вздохнул и поправив
кепарик произнёс, громко кашляя прогнившими лёгкими и ловя их вставной
челюстью, чтоб потом снова проглотить частицу себя внутрь:
- Не то уже здоровье, да. Совсем не то. Старый
стал. Ха, как змея облезлая...
- Э-эй, старик, расклеился. На-ка вот, кумыса
глотни и на поправку, - опять дико заржа, ну что тут поделать, раз человек он
такой, Серик одной рукой, не отрывая глаз от раздолбанной в хлам дороги, достал
из под своего сиденья пластиковую помятую полтарашку с синей крышкой и протянул
напиток деду. Касым осторожно открыл её и поднёс ко рту. Сделал пару глотков и
ему стало хорошо. Захотелось ещё. Но только поднеся бутылку ко рту машина
наскакивает на очередную кочку, бутыль подпрыгнув вместе с пассажирами
умудрилась испачкать старцу уголки губ и пролить немного своего содержимого на
его куртку. Старик сделал благородную трёхэтажную отрыжку и посмотрел на себя.
Вместе с ним на него посмотрел и Серик. Молча переглянувшись они весело
заржали, а Касым, закрутив крышку и отдав бутылку обратно, принялся оттирать
рукавами своей куртки кислое конское молоко, затем достал платок и вытер рот,
потом слегка наклонил вбок голову, делая жест вроде "ну надо же такому
случиться" произнёс:
- Да, ради кумыса можно ещё с пяток пожить. Хорош
зараза, ети их мать!
На перекрёстке, когда до кладбища оставалось
метров двести, машина остановилась скрипя колодками и оставляя столп пыли после
себя. Серик, обежав её спереди, открыл Касыму дверь и помог выбраться нуружу,
словно из танка.
- Держись Касымбай! Тут сам дойдёшь, ну а я
дальше поеду. Ну, бывай, поскакал я!
Серик хлопнул пассажирской дверью и та закрылась
с первого раза. Он опять заржал на это:
- Ух, смотри старик! Сразу закрылась. К добру
видать, - весело переливались лучи солнца на его золотых передних коронках.
Серик похлопал по двери ладонью и понимающе цокнул языком. Опять нарисовав
полукруг сел внутрь и, не забыв пнуть по переднему колесу, просигналил на
прощание, резко дёрнулся с места и его копеечный синий силуэт постепенно стал
отдаляться, растворяясь в пекле дня.
Старик пронаблюдал некоторое время за ним, пока
тот не скрылся, стоя в излюбленной для кратковременного отдыха позе: расставив
ноги на ширине плеч и опершись на трость. Палящее солнце не разрешало путникам
задерживаться на одном месте и Касым вынужден был двинуться дальше. Медленно
петляя между знакомых и милых ему сердцу памятников и надгробий он по тихому
продвигался к своей цели. Каждое из них было как родное и у каждого была своя
история захоронения, в которой он принимал участие. Он постоянно ухаживал за
заброшенными могилками. Просто так, чтоб они не портили собой убогий местный
пейзаж. Да к тому же и просто не было никого, кто сделал бы это за него. Обычно
старые, заросшие сорняковой травой и бурьяном ограждения давали понять, что
родственников, могущих как-то присмотреть за всем этим давно уже нет. Так они и
стоят себе одни-одинёшеньки, наводя смертельную тоску и скорбь вселенского
масштаба. Ещё он делал это и от того, что понимал всю безвыходность своего
положения так как знал, что после его смерти за его кучкой земли тоже
присмотреть будет некому, ведь детей у него не было, а родных не осталось.
Вот Касым добрался до самой близкой и дорогой
сердцу могилы. Эта было могила его жены со знакомыми до боли числами "1932
- 1987", с аккуратно покрашеным в зелёный цвет, цвет жизни, ограждением с
узорами. Он сам его сделал, несмотря на то что никогда ранее до этого не
сталкивался со сваркой, но тут вдруг научился и вложил в этот труд всю свою любовь
и умение. Гранитный памятник правда немного покосился, потому что у него уже не
было сил поставить его на место, строго перпендикулярно земле. А из треснутого
стекла, прикрывающего пожелтевшую фотографию, смотрело на него знакомое и милое
лицо и взглядом своим, своими фотографическими глазами, просило об одном, чтоб
муженёк её повыдёргивал сор траву, полил цветы и дал ей что нибудь поесть.
Касымбай знал об этом её желании, потому как сам приучил её к этому. Он достал
из кармана два плесневелых и засохших пряника, один из которых был к тому же и
надкусан. Когда-то ему дала их маленькая девочка, как раз на родительский день.
Обычай такой, чтобы помнили и не забывали. Мать этой девочки сказала ей, указав
на почиенного старца, что этот дедушка работает сторожем кладбище и часто
убирает мусор возле её бабушки и возьми вот и отнеси ему гостинец. Девочка так
и сделала, но не сдержалась и откусила немного, думая наверняка что никто этого
не заметит. Её можно было понять. Работы в этих краях было мало. Один единственный
карьер по добыче железной руды не мог удовлетворить все потребности населения и
платили там меньше малого. В таких условиях народ мучался от постоянного
безденежья. Касымбай попробовал размять их в руке, но без толку. То ли в руках
его не осталось сил, то ли были они чересчур засохшими и он только убрал с них
плесневелый налёт. Они весело, со стекляным визгом, опустились на колотую
тарелку. А фотографические глаза жены продолжали умоляюще смотреть на него.
Касым провёл рукой по очертаниям её лица сквозь стекло со слезами на глазах и
словами:
- Что же, милая моя Надюша, не хочешь больше
ждать? А ведь столько прождала... Мне тоже было плохо без тебя. Один я совсем.
Приду скоро... жди...
Касым сел на сколоченную им же маленькую скамейку
и поставив свою тросточку чуть поодаль, пристроив на её набалдашник свой
подбородок, точнее он сначала положил на него свои старческие ладони, а потом
взгромоздил всё остальное. Надвинутая на лоб кепка и очки, испачканная кумысом
куртка с новопосаженным пятном, протёртые штаны и лёгкие мокасины. Всё это
сидело и плакало. Сквозь солнечные очки, за ними по щекам капали слёзы, стекая
тоненькими струйками вниз и просаливая землю. Изредка его хрупкие плечи
вздрагивали и если смотреть на старика издали то было понятно, какой глубокий
кризис он сейчас переживает.
Он плакал. Плакал как маленький ребёнок. И он не
стыдился этого. Пусть все видят. Но никто не увидит, как на зло. А если и
увидят, то не пожалеют. Касыму не нужна чья-то жалость. Он прожил долгую жизнь и
был уважаемым стариком, потому как с самого раннего детства работал, привык всё
зарабатывать своим горбом и руками и никого никогда ни о чём не просил. Всё
привык делать сам. В такой позе Касымбай просидел около двух часов, практически
без движений. Солнце немного поубавило свою прыть. Касым встал кое-как, едва не
упав от потери равновесия, да и кровь вся стекла ниже колен, поэтому его
повело.
- Ну, пойду я... а ты жди апа... немного
осталось...
Касым крепко завязал проволокой калитку и пошёл проходить
те самые двести метров до перекрёстка. Это будет его марш-броском, а там может
подкинет кто...
И долгие долгие месяцы хранилась в памяти
народной его неблагодарная кончина. Историю эту мне поведала старуха Гульжан, а
я передаю её вам, в точности так как сам слышал. Никто точно не знал, сколько
ей лет, но она была страшная, умалишённая бестия и люди называли её
Кошмар-апой. Вот, собственно, её исповедь:
- Деда Касыма то помнишь? Знаешь конечно.
Сторожил то кладбище наше. Умер ведь, с месяц уж как. А как нехорошо то Аллах с
ним поступил, словно с собакой какой. И за что только, одному ему известно. Не
справедливо он обошёлся с ним. Касым ведь два дня дома лежал, бездыханный.
Вонять уж начал, а дела до него и нет никому. Соседи почуяли неладное, что де
за запах от стариковской квартирки идёт. Никак помер. Дверь то они вскрыли,
глядь, а он уж и спрел совсем. Жара то какая тогда стояла. Так они хотели в
морг его отдать, чтоб выяснили там отчего старик то наш помер. Даже водителя
заказали, благо что всем подъездом скидывались тенгой на это. И что ж? Приехал
водитель. Загрузили тело его тощее в машину, на которых врачи ездют ну и поехал
он. Повёз он его в Рудный, да на пол пути колесо у него пробило. Вышел шофер,
принялся колесо чинить. а инструменты то у него лежат внутри, где Касым
находился. Открыл он дверцу и давай материться, проклятья во все стороны
посылать. От тряски такой сильной дед наш развалился то совсем. И руки у него
от плеч поотлетали, и ноги в коленах, голова на нитке держалась, кое-как. И все
то кишки его пораскидало в машине во все стороны. Грязь везде, словом срам
господний. А шоферу то делать нечего, ехать ведь всё равно надо. он уже бедный
и исплакался весь, тошнит его, запах то какой стоит. Он голову себе тряпкой
обмотал мокрой, чтоб вдыхать меньше и ну отскребать его. В руках лопата и
ведро. Вот и всё. Он его в это самое ведро по кускам собрал, да яму вырыл близ
дороги, туда он его и выкинул, похоронил то есть, вместе с блевотой то со
своей, всё перемешалось в яме, будь она не ладна. Вот так и было то всё, ничего
я не приврала. Всё как на духу рассказала. А ещё что я слышала, так это будто
знал он, что всё будет так. Он ведь подарков всем напокупал, а в тот день, что
помер, даже оделся в чистое. Да бельё это видать ему там не пригодится. К жене
своей собирался, туда. Сколько раз от него это люди слышали. Встал на своём и
всё тут, и никто отговорить не мог. Как он её любил то а? Да только знаю я, что
не быть им вместе. Хоть он земле и предан, а всё равно здесь будет, с нами.
Нельзя ему туда. На кладбище, видать, на роду у него написано, до конца быть. И
будет он на могилке сидеть, с Надей то со своей. Говорят даже, что видели его
там, сидит, не шелохнётся, а только вздыхает тяжко. А ещё говорят, что он это
точно, потому как запах там стоит нечеловеческий, разложения. Нигде нет больше,
а там есть. Злой он стал. Знак то плохой, скоро все повымрем, уходить отсюда
надо, да побыстрее. А ведь Касымбай то один жил, не было у него никого. А
теперь то сразу и внуки появились, и племянники.
Последнее
хотят у старика отобрать. Сволочи. Что с людьми делается, сволочи... Старая
ведьма говорит тихо. Она часто оглядывается по сторонам своими маленькими
свинячьими глазками, плюёт на землю и топчит свои плевки. А я стою и уже больше
её не слушаю, хотя она продолжает что-то говорить. А я стою и думаю, думаю ни
над чем. Мне смешно, да и ведьма эта старая на ухо присела. Но я не могу
смеяться, хоть и смешно, не знаю от чего. Я хочу ржать, дико и громко, как
необученная лошадь, пусть только оставят меня в покое. Мне это не надо. Все эти
бредни умалишённых пенсионеров. Я хочу жить... и умереть красиво!